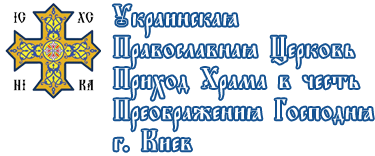Вход Господень в Иерусалим: что изображено на иконе?
 Веселися, Иерусалиме, торжествуйте, любящие Сиона: царствуяй бо во веки Господь сил прииде…(Ирмос 8 песни)
Веселися, Иерусалиме, торжествуйте, любящие Сиона: царствуяй бо во веки Господь сил прииде…(Ирмос 8 песни)
В земной жизни Господа Иисуса Христа не было более торжественного момента: тысячи людей, пришедших в Иерусалим на праздник иудейской Пасхи вдруг узнали, что во святой град вступает Тот, о Котором возвещал пророк: Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной (Зах. 9:9). В этом триумфе виделось осуществление ветхозаветных пророчеств: Быт. 49:10–11; Пс. 8:2–3; Зах. 9:9.
Стихира на «Господи, воззвах» праздника цитирует пророчество Захарии: «се Царь твой грядет кроток и спасаяй, и вседый на жребя осле, сына подъяремнича». Видимо, прибытие верхом на осле напоминало также обстоятельства помазания на царство Соломона (3 Цар. 1:32–40), на что намекает праздничная стихира на стиховне: «На херувимех носимый, и певаемый от серафим, воссел еси на жребя Давидски, Блаже; и дети Тя воспеваху боголепно» [12]. Правда, царь Давид велел посадить сына не на осленка, а на своего мула (слав. меск). Событие входа Господня в Иерусалим воспринималось всеми как вход истинного Царя Израиля – это подтверждается и тем, что люди постилали под ноги Ему свою одежду.
Символика Входа в Иерусалим исполнена внутренней антиномичности: с одной стороны, в ней явлены доказательства Божественности Иисуса Христа, Он выступает в ней как Царь-триумфатор; Его громогласно приветствуют взрослые и дети, Ему подстилают одежды под ноги, но, с другой стороны, при этом Он въезжает не на коне, а на молодом осле, символе кротости, а затем добровольно отдает Себя неправедному суду синедриона, идет на позорную смерть на кресте [4].
Все действия, сопровождавшие Вход Господень в Иерусалим, указанные в четырех Евангелиях, запечатлены в Предании Церкви как в богослужебных текстах, так и во множестве икон, изображающих праздник. Они не являются случайными или эпизодическими и в толковании отцов Церкви имеют ясный пророческий, образный и прообразовательный смысл. Иконы праздника вмещают в себя практически все его содержание [7]. Конечно, столь совершенная иконографическая интерпретация самого события и установленного в честь него праздника возникла не сразу. Но в развитой иконографии Входа Господня в Иерусалим мы находим не только внешнее выражение события Священной Истории, но и его существо, его непреходящий смысл.
Святитель Епифаний Кипрский в своем слове на Неделю ваий вопрошает: «Для чего Христос, ходив прежде сего пешком, ныне и только ныне воссел на животное? Дабы показать, что Он вознесется на Крест и прославится на нем. Что знаменует противоположная весь? Строптивое расположение духа выгнанного из рая человека, к коему Христос послал двух учеников, то есть два Завета, Ветхий и Новый. Кого означает ослица? Без сомнения, синагогу, которая под тяжким бременем влекла жизнь и на хребте которой когда-нибудь воссядет Христос. Кого означает осленок? Необузданный языческий народ, на которого никто не садился, то есть ни закон, ни страх, ни Ангел, ни Пророк, ни Писание, но только один Бог Слово».
С толкованием святителя Епифания в службе праздника созвучна стихира по Евангелии, гл. 2: «Днесь Христос входит во град Вифанию, на жребяти седяй, безсловесие разрешая язык злейшее, древле свирепеющее». То есть, ныне Христос входит в Вифанию, сидя на осле, освобождая от губительного неразумия язычников, издревле пребывающих невозделанными. В синаксаре имеется примечание: «по толкованию святых отцев, жребя знаменует язычников».
По замечанию известного иконописца инока Григория (Круга), исполненное символизма слово святителя Епифания никоим образом не является попыткой просто украсить истолкование событий сложными иносказаниями, но глубочайшим укоренено в святоотеческом разумении домостроительства Божия. Символизм этот является неотъемлемым свойством богословия, рожденного в недрах Церкви, и никакое священное событие не может быть вполне осмыслено и изъяснено вне этого символического разумения.
«Вне его, – продолжает инок Григорий, – не может быть понята и, более того, создана ни одна икона. Потому что жизнь иконы простирается к Будущему Веку и назначением иконы является не запечатление чего-либо временного, но того, что не имеет преходящего значения. И богословие иконы определяется тем, что то, что не может показаться относительным, приобретает в иконе непреходящий смысл» [7].
Уже в самых древних изображениях этого евангельского события отражены характерные моменты пророчества: шествие на осляти и народное ликование. В символике события Входа Господня в Иерусалим и его литургического празднования важное место занимают пальмовые ветви, вайя. Отсюда название праздника Неделя ваий, ЇKuriakh twn bai?wn, Dominica in palmis (Dies palmarum).
У древних евреев пальма – дерево красивое, ветвистое и плодовитое – служила символом веселья и торжества: в первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней (Лев. 23:40). Пальмовые ветви употреблялись в торжественных случаях: первосвященник Симон освободил от язычников Иерусалим вошел в город с славословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимвалами и цитрами, с псалмами и песнями, ибо сокрушен великий враг Израиля (1 Макк. 13:51). Очистив от осквернения язычниками Иерусалимский храм, Маккавей и бывшие с ним провели в весельи восемь дней по подобию праздника кущей, с жезлами, обвитыми плющем, и с цветущими ветвями и пальмами возносили хвалебные песни Богу (см: 2 Макк. 10:7).
С пальмами в руках было принято встречать знатных лиц. Пальма – символ мужества – давалась в награду победителям. Встреча Христа с вайями послужила источником для христианского употребления ваий в празднике Входа в Иерусалим. В стихире на стиховне об этом говорится прямо: «Темже и мы ветви масличныя носяща и ваиа, благодарственно Тебе вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне».
Обычай постилать под ноги царя одежды также известен из книг Ветхого Завета: когда пророк Елисей помазал Ииуя на царство, слуги поспешили, и взяли каждый одежду свою, и подостлали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: воцарился Ииуй! (4 Цар. 9:13) [10].
Вход в Иерусалим – один из главных христианских праздников, входящий в число двунадесятых, совершается он со всей возможной торжественностью: «Радуйся и веселися, граде Сионе, красуйся и радуйся Церкве Божия: се бо Царь твой прииде в правде на жребяти седя, от детей воспеваемый» (стихира на стиховне).
Между тем при всей своей торжественности праздник Входа Господня в Иерусалим прямо предшествует Страстной седмице, и эта непосредственная близость праздника к дням Страстей и крестной смерти Спасителя налагает на празднование Входа в Иерусалим как бы страстную печать [7]. В стихире на стиховне в неделю ваий вечера поется: «От ветвий и ваий, яко от божественна праздника, в божественный прешедше праздник, к честному Христовых страстей, вернии, стецемся таинству спасительному».
Самый день, избранный Спасителем для входа в Иерусалим, прообразовательно свидетельствует о об искупительной жертве [7]. Святитель Амвросий Медиоланский говорит, что день входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим приходился на девятый день месяца, когда избирался пасхальный агнец, которого закалывали в четырнадцатый день. Следовательно, Христос, как истинный Агнец, который должен был претерпеть распятие в пятницу, вошел в Иерусалим именно тогда, когда избирался прообразовательный агнец.
Изображения торжественного входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим, иллюстрирующие рассказ Евангелия (Мф. 21:1–9; Мк. 11:1–10; Лк. 19:29–38; Ин. 12:12–15), известны с IV в., это рельефы на римских саркофагах. Как отмечает Н.В.Покровский [10], последовательного развития сюжета в этих памятниках нет, хотя есть и различие в композициях: на одних саркофагах изображение краткое, на других довольно сложное. Но не всегда краткое изображение древнее сложного, нередко бывает и наоборот. Объясняется это сколько личными намерениями художника, столько же и техническими условиями, зависевшими от объема поверхности, бывшей в распоряжении художника. Второе различие между изображениями саркофагов состоит в том, что одни из них передают общие черты евангельского рассказа, повторяемые всеми евангелистами, другие придерживаются рассказа евангелиста Матфея. Отличительным признаком в этом случае служит присутствие молодого осла вместе с ослицей, о котором упоминает один только евангелист Матфей [10].